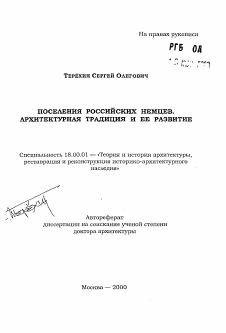автореферат диссертации по архитектуре, 18.00.01, диссертация на тему:Поселения российских немцев. Архитектурная традиция и ее развитие
Автореферат диссертации по теме "Поселения российских немцев. Архитектурная традиция и ее развитие"
На правах рукописи
ТВ од
' п а .
о ' ■•
• »IV, I '
Терёхин Сергей Олегович
ПОСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ. АРХИТЕКТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ И ЕЕ РАЗВИТИЕ
Специальность 18.00.01 — «Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного
наследия»
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора архитектуры
Москва — 2000
Работа выполнена в Научно-исследовательском институте теории архитектуры и градостроительства (НИИТАГ) Российской Академии архитектуры и строительных наук (РААСН) и Саратовском государственном техническом университете (СГТУ).
Научный консультант —
доктор искусствоведения, профессор,
член-корреспондент РААСН В.Л. Хайт
Официальные оппоненты:
доктор искусствоведения, профессор, академик PAX,
член-корреспондент РААСН Д.О. Швидковскин
доктор архитектуры A.C. Щенков
доктор архитектуры Г.Н. Айдарова-Волкова
Ведущая организация — Самарская государственная архитектурно-строительная академия.
Зашита состоится июня 2000 г. в 11 часов на заседании Диссертационного совета Д—187.01.01 при Научно-исследовательском институте теории архитектуры и градостроительства по адресу: 121019, Москва, ул. Воздвиженка, 5.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Научно-исследовательского института теории архитектуры и градостроительства РААСН.
Автореферат разослан (.7 апреля 2000 г.
Ученый секретарь Диссертационного совета, доктор архитектуры
И.А. Бондаренко
НО(.М'?Уч,0
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью фундаментального изучения традиционного зодчества , полиэтнических регионов России, определения условий устойчивости и изменчивости материальной культуры; связана с обеспечением историко-теоретической базы анализа и моделирования современных расселенческих процессов.
Опосредованность эволюции традиционной архитектуры i (другие дефиниции: этническая, народная, непрофессиональная. Ср.: folk architecture (англ.); Bauer-Architektur, anonyme, ethnische, volkstümliche Baukunst (нем.)) многими обстоятельствами и условиями, разнонаправленность динамических моментов, наслоение неоднородных или полярных тенденций усложняют задачи анализа, но и придают их решению дополнительную привлекательность.
Один из показательных примеров, дающих обширный материал для исследования — архитектурно-строительная культура немецкой диаспоры в России. Наиболее полно этническая традиция реализовалась в регионах (Поволжье, При- • черноморье, Приазовье), где немцы проживали компактными ареалами в специальных поселениях — колониях. Их устройство началось по инициативе государства (заселение и хозяйственное освоение свободных окраинных земель) с 1760-х гг. Процесс продолжался и в XIX в. — к его исходу число немецких селений в империи (без учета Прибалтики и Царства Польского) достигало 1600, с общим числом жителей до 1 150 600 человек, в том числе в Поволжье — 402 565, в прочих частях России (Урал, Сибирь и другие) — 104 423, в Причерноморье и Приазовье — 377 780, в остальных частях Украины (Волынь и другие) — 209 073, на Кавказе — 56 729.
«Переселенческая архитектура», в массе непрофессиональная, вызрела за полтора столетия в узнаваемую тенденцию, обрела собственный выразительный язык, отличавший ее от первоисточника, выделявший ее в новом контексте. Устойчивость и потенциал явления иллюстрируют поселения «второго порядка», основанные в конце XIX — начале XX в., в ходе новой (центробежной) фазы миграций российских немцев (в Азиатскую часть России, страны Северной и Южной
Америки): их материальная среда представляла собой почти точный слепок с поволжского, причерноморского и других оригиналов. Можно допустить, что термин «переселенческая N архитектура» собирательно характеризует динамическое целое — значительную ветвь «внешней» (негерманской) немецкой материальной культуры, прямо или опосредованно связанную с Россией. £У
Предметом анализа является процесс трансляции тради-v ционной архитектуры, ее развития в поликультурном пространстве регионов — от привнесения образца, через формирование самостоятельности явления, к дальнейшему переносу, распространению и видоизменению его признаков.
Объект исследования — расселенческая и архитектурно-строительная практика, выразившаяся в размещении, пла-, нировке и застройке немецких поселений в важнейших российских ареалах, а также в исходных (немецкие государства) и некоторых «наследных» (внутренних и зарубежных) по отношению к ним регионах.
Границы исследования. Хронологические — обнимают более полутора столетий — с середины XVIII в. до 1930-х гг. Географические — охватывают основные, показательные ареалы, связанные процессом трансляции явления: земли Баден-Вюртемберг, Гессен, Рейнланд-Пфальц и некоторые другие (Германия), регионы Нижнего Поволжья, Северного Причерноморья и Приазовья, Сибири (Россия, Украина, Казахстан), отдельные штаты и провинции государств Америки (США, Канада, Аргентина, Бразилия). Тематические — вмещают вопросы истории развития переселенческой архитектуры, а также теории формирования, существования и наследования материальной культуры характерного этнического сообщества, выраженной в архитектуре.
Состояние вопроса. Литература о немцах в России ши-' рока по географии и тематике (от крупномасштабных источниковедческих, статистических, экономико-географических, культурологических, этнографических работ до фамильных историй); она систематизирована в различных библиографиях, основные из которых используются в настоящей работе.
Фундаментальные труды А. Айсфельда, Д. Брандеса, A.A.
Велицына, Д. Дальмана, А. Каппелера, A.A. Клауса, Г.Г. Пи-саревского, И. Фляйшхауэр, К. Штумпа, А. Эрта содержат базовую, хрестоматийную информацию для изучения культуры российских немцев. Опорные исследования существуют и по группам поселений, сосредоточенным в важнейших регионах — в Поволжье (Г. Бауэра, Г. Вератца, Г. Вонвеча, Ж.-Ф. Буррэ, Я. Дитца, Д. Лонга, И.Р. Плеве, X. Хафы, Д. Шмидта и др.), Причерноморье и Приазовье (Д. Брандеса, Г. Лейббрандта, Й. Малиновски, A.B. Малиновского, X. Ремпеля, Й. Штаха и др.), Санкт-Петербургской губернии (Э. Амбургера, П.И. Кёппена, Э. Коха), Сибири (В. Кригера, A.B. Малиновского, Й. Штаха и др.) — а также по городскому немецкому населению (Э. Амбургера, М. Буш, Д. Дальмана, Ф.В. Духовникова, Б. Ишханьяна, II.В. Юхнёвой).
Представительны работы по гомогенным группам, образованным российскими немцами по переселений их на рубеже XIX—XX вв. в США и, Канаду (Д. Балленски, Ж.-Ф. Буррэ, Э. Хайера, Г. Гугтенбаха, Т. Клоберданца, Г. Лемана, М. Миллера, Р. Роуланда, Р. Салле и др.), страны Южной Америки — в частности, в Аргентину и Бразилию (Ж.-П. Бланпэна, Ф. Бре-поля, И.-Б. Грефе, П. Классена, Т. Коопа, В. Лютге, Б. Унру, А. Эйхлера).
На таком фоне особенно заметна скудность трудов, затрагивающих архитектурно-градостроительную историю вы- 1 бранного нами этнического сообщества. Эта практика до недавнего времени даже не была определена как самостоятельный объект научного интереса и, в силу различных для российских и зарубежных исследователей причин, мало изучена специально. Немногочисленные публикации касаются отдельных сторон, фрагментов явления либо отдают предпочтение проблематике истории, этнографии и других смежных наук, изредка интегрируя в нее архитектуроведческие вопросы.
Этот недлинный ряд открывается работой Э. Коха: специальный раздел диссертации «Die deutschen Kolonien Nordrußlands» (1931 г.) он отвел рассмотрению архитектурно-строительных особенностей немецких колоний под Санкт-Петербургом: планировки селений, участков-домовладений, типов жилых и хозяйственных построек; представил аналитические схемы типов дома и двора.
Один из разделов книги Й. Штаха о немцах в Азиатской части России «Das Deutschtum in Sibirien, Mittelasien und dem Fernen Osten von seinen Anfängen bis in die Gegenwart» (1938 r.) посвящен строительным отличиям колоний, расположенных в Сибири.
Почти одновременно (1939 г.) появилась публикация К. Крамера «Die Architektur in den Wolgadeutschen Dörfern». Несмотря на малый объем, обзорность изложения, она знаменательна тем, что впервые назвала имя явления.
После долгого перерыва, в I960 г., публикуется статья A.B. Малиновского «Жилище немцев-колонистов в Сибири» — первый отечественный опыт обращения к архитектурно-строительной практике немецких колоний в России. В статье установлены особенности характерных жилых построек в немецких селах Новосибирской области; рассмотрены их типология, планировочные и объемно-пространственные решения, строительные приемы; указывается на заданность такой архитектуры поволжским источником.
Весомы работы Й. Шнурра, в особенности статья «Die Siedlung, der Hof und das Haus der Russlanddeutschen» (1968 г.), с подзаголовком «Eine geographisch-volkskundliche Betrachtung» («Фольклорно-географический аспект»). Он привлек и проанализировал большой материал по застройке колоний в регионах России (в том числе Поволжье, Причерноморье), их планировочным особенностям, приемам организации участков-домовладений, устройству жилых домов, конструктивным решениям и декору. Особенно пристально рассмотрено влияние бытового уклада колонистов на планировку и внутреннее убранство зданий. Заслуживают внимания, в контексте данного исследования, и другие труды этого специалиста: в двухчастной монографии (1978, 1980 гг.) по истории евангелическо-лютеранской и католической церквей в России обнаруживается немало атрибуций, описаний культовых построек в колониях и городах.
Интересные и разносторонние исследования разворачиваются усилиями украинских ученых: Г.П. Петришина, О.П. Олешко и другие обращаются к архитектурно-градостроительному наследию немецких колоний Галиции; В.И. Ти-мофеенко публикует материалы по строительству колонист-
ских церквей на Юге Украины.
Самостоятельную группу составляют несколько архи-тектуроведческих статей, опубликованных в национальных сборниках и журналах американскими исследователями К. Халлом, Т. Джорданом, М. Коопом, С. Людвигом, Д. Мерфи, А. Петерсеном, У. Шерманом и другими, обозревающими особенности поселений и построек немцев — выходцев из России. Отмечается массовый (folk-) характер явления, подтверждается его устойчивость в новой среде, выявляются привнесенные (immigrant-) черты планировки, застройки и декора, публикуется убедительный графический материал. Акцентируется «американизация» приемов расселения — переход от крупных сел к фермам (впрочем, можно провести аналогию — хутора и отруба в России начала XX в.); отмечаются изменения типологического ряда — в сторону увеличения доли и расширения диапазона производственных объектов. Основательны также изыскания Р. Фризена по постройкам меннонитов, опубликованные в канадской периодике.
Однако в целом представленный коллаж далеко недостаточен для объемного представления о явлении; труды, в которых оно рассматривалось бы комплексно, совсем не встречаются; многие положения обозреваемых работ требуют интерпретации в категориях архитектуроведческой науки. Очевидна необходимость сопоставления хода эволюции переселенческой архитектуры в нескольких показательных ареалах, а также активного привлечения материалов по традиционной архитектурной культуре германских государств и территорий, характеризующих базу немецкого этнического зодчества в России.
Научная новизна. В диссертации впервые рассмотрена динамика трансляции традиционной немецкой архитектуры как важной части национальной культуры: от привнесения опорных образцов, через их естественную адаптацию, корректировку и усложнение в полиэтнической среде, к накоплению нового качества, новой выразительности. Материал исследования позволяет проследить и ранее не изучавшееся «эхо» процесса: очередной перенос уже интегрированного в новый контекст явления в «третьи» регионы.
Определено понятие немецкой переселенческой архитектуры в России; предпринята попытка разносторонней реконструкции и комплексного анализа архитектурно-градостроительного наследия российских немцев.
Цель исследования — выявить особенности и характер переселенческой архитектуры как системного явления, представленного и получившего развитие в конкретных регионах. Сформулированная таким образом цель подразумевает две группы задач.
Базовые задачи:
— реконструировать механизм и формы трансляции архитектуры как части народной культуры;
— установить роль традиции в формировании этнического зодчества;
— выявить важнейшие факторы (конфессиональные нормы, бытовой уклад, строительные умения и другие), определяющие характер явления;
— рассмотреть способы и результаты взаимодействия этнической архитектуры и государственных институтов;
— определить условия устойчивости и изменчивости переселенческой архитектуры в сложной по этническому составу культурной среде.
Подчиненные задачи:
— провести анализ немецких прототипов, послуживших одним из источников переселенческой архитектуры в России (планировка поселений; типы жилых домов и дворов; виды традиционных общественных построек);
— обозначить признаки и черты своеобразия переселенческой архитектуры;
— исследовать пути и результаты переноса явления из «старых» поселенческих ареалов в «новые» (конец XIX — начало XX в.).
Методика и источники исследования. Используется комплексный подход к привлечению, анализу, обобщению материалов: научной литературы и дополнительных источников, архивной документации, результатов натурных обследований. При недостаточности объема проектных документов, объяснимой преобладанием в изучаемом объекте доли непрофессионального строительства, существенно возрастает значение
методов и подходов смежных областей науки — истории, культурологии, этнографии (например, антропологический, историко-демографический) — и связанных с ними групп источников.
Работа базируется на проведенных в последние годы источниковедческих изысканиях в архивах, музеях и библиотеках России и Германии1, а также на результатах натурных обследований характерных поселений и построек. В научный оборот вводится большой объем новых документов, фактических данных и аналитических результатов.
К основным источникам относятся исследования традиционной архитектурно-строительной культуры немецких земель, в том числе: библиографии; энциклопедии, альбомы, атласы; монографические и диссертационные труды (А. Хель-бока, В. Маркса, Р. Мильке, К. Тиде, Г. Винтера, Г. Вольфа и др.); научные сборники; сериальные издания (журнальные статьи, промежуточные публикации продолжающихся исследований2).
Используется обширная отечественная и зарубежная литература о немецких поселениях в регионах Российской империи и связанных с ними векторами трансляции явления других странах. Можно отметить, в частности, альманах Землячества немцев из России3, собирающий большой фактический материал, а также выходившие преимущественно в 1920-е гг. серии сборников научных трудов Deutsche Ausland-
1 Архивы и музеи: ГАСО (Саратов); РГИЛ (С.-Петербург); ЦГАДА (Москва); ЦГВИА (Москва); СМК (Саратов); BArch (Кобленц); IFA, Archiv (Штутгарт); Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland, Archiv (Штутгарт); Freilichtmuseum Hessenpark (Ней-Аншпах); Freilichtmuseum Sobernheim (Бад-Зобернхайм); Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof (Гутах) и другие. Библиотеки: БАН' (С.-Петербург); НБ СГУ (Саратов); РГБ (Москва); РНБ (С.-Петербург); IFA, Bibliothek (Штутгарт); Institut für Europäische Geschichte, Bibliothek (Майнц); Kunstakademie, Bibliothek (Дюссельдорф); библиотеки университетов (Бонн, Гейдельберг, Карлсруэ, Фрайбург, Штутгарт и другие) .
2 Например, работы межрегионального научного общества Arbeitskreis für Hausforschung e.V.
3 Heimatbuch der Deutschen aus Rußland. H.l—23. Stuttgart: Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland 1954—1998.
Institut4 (Штутгарт), которые содержали разностороннюю информацию о немецкой диаспоре во многих странах и регионах.
Дополнительные историографические источники представлены дореволюционными отечественными текстами с описаниями территорий и поселений (журналы научных экспедиций, записки современников, дневники путешественников, мемуары), а также официальными документами, научными материалами и публицистическими свидетельствами периода существования административно-территориальной Автономии немцев Поволжья (1918—1941 гг.), сначала в форме области (АО), потом республики (АССР). Часть таких текстов опубликована, другиё сохранились в архивных и музейных фондах. Архивы располагают и ведомственной перепиской, в том числе по вопросам строительства в колониях, служебными отчетами (описательными, статистическими) губернаторов, местных чиновников, министерских ревизоров и некоторыми другими документальными материалами 2-й половины XVIII — начала XX в.
Иконографические источники представлены картами, схемами (расселенческими, землеустроительными, конфессиональными), планами поселений, проектами построек (1760-х — 1930-х гг.), а также фотографиями и негативами (1880-х — 1930-х гг.). Отдельная группа включает графические реконструкции (профессиональные и любительские) планов колоний, панорам, фрагментов, деталей застройки; зарисовки, кроки, обмеры; современные натурные фотографии объектов.
Перечисленные основные и вспомогательные источники представляются достаточными для фактографического заполнения каркаса исследования; их совокупность позволяет проводить собственно архитектуроведческий анализ: составлять сквозные аналитические ряды (например, планировка традиционных сел в германских землях, немецких колоний н Поволжье, Причерноморье, Сибири, Северной и Латинской Америке), соотносить способы организации дворового пространства, композиционные типы построек. Вместе с тем, в
4 Schriften des Deutschen Ausland-Instituts Stuttgart. A.: Kulturhistorische Reihe. Bd. 1—32. Stuttgart: DAI 1917—1932; другие серии.
контексте сформулированных задач, кажется правомерным построение исследования по проблемному (а не типологическому) принципу, — такой подход отражен в структуре работы.
На защиту выносятся следующие положения диссертационной работы:
— модель расселения российских немцев во 2-й половине XVIII — начале XX в.;
— модель переноса и устойчивого преемственного саморазвития традиционной культуры, выраженной в архитектуре.
Апробация результатов исследования. Основные результаты, положения и материалы диссертации опубликованы в монографиях «Deutsche Architektur an der Wolga» (1993 г.) и «Поселения немцев в России. Архитектурный феномен» (1999 г.), в отечественных и зарубежных профессиональных изданиях (сборниках статей, журналах), представлены в докладах на международных, всероссийских и региональных научных конференциях, в публичных лекциях и докладах в университетах Бонна, Гейдельберга, Дюссельдорфа, Карлсруэ (Германия). Разделы исследования привлекались для подготовки научных отчетов НИИТАГ РААСН; материалы работы послужили основой написания статей для энциклопедии «Немцы России».
Фрагменты исследованной темы публиковались в СМИ (газеты, журналы), использовались в сценарии документального фильма «Формула флёра» (1992 г.) и цикла короткометражных телевизионных сюжетов о немецких историко-архитектурных памятниках в Поволжье (1992—1995 гг.), привлекались при подготовке выставочных экспозиций различного характера.
Результаты исследования использовались при разработке следующих проектов: Проект планировки с. Щербаковка Ка-мышинского района Волгоградской области (1991 г.); Архитектурное обоснование реставрации'здания Консульства Германии в г. Саратове (1992 г.); Районная планировка группы административных районов компактного проживания немцев на территории Саратовской области (разделы «Историческая записка», «Вариантная модель расселения на территории АССР
НП», 1993 г.); Проект реставрации евангелическо-лютеранской церкви в г. Марксе (историческая записка, 1993 г.); Комплексная оценка территорий, перспективных для проживания российских немцев в Поволжье (раздел «Немецкие поселения в Саратовском регионе», 1995 г.); Архитектурное обоснование восстановления католического кафедрального собора св. Кле-менса в г. Саратове (в соавторстве, 1996 г.) и других.
Проведена фронтальная инвентаризация немецких поселений и построек, сохранившихся на территории Волгоградской и Саратовской областей (1989—1992 гг.); аннотированные списки выявленных объектов используются при подготовке Свода памятников истории и культуры Саратовской области.
Материалы исследования внедрены в учебно-научный процесс Саратовского государственного технического университета — используются в качестве базовых аспирантами и дипломниками архитектурно-строительного факультета; подготовлен и читается курс лекций «Национально-региональные особенности архитектуры Саратовского Поволжья».
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Диссертация состоит из двух томов. В первом томе представлены основной текст и приложения. Текст содержит введение, 4 главы и выводы по каждой из них, заключение. Приложения I—V включают: список литературы, указатель архивных документальных и графических материалов, именной указатель, географический указатель, список сокращений. Во втором томе заключена иллюстративная часть (схемы, чертежи, архивные и натурные фотографии), а также приложение VI — список иллюстраций.
Во введении раскрывается актуальность темы исследования, определяются его цель и основные задачи, обозревается состояние знаний в исследуемой проблеме, выстраивается понятийный ряд. Выделены объект и предмет исследования, сформулированы его хронологические, территориальные и тематические границы, изложены особенности
выбранного методического подхода, охарактеризован круг основных и дополнительных источников. Ключевые положения диссертации представлены в виде теоретической гипотезы.
В первой главе «Внутренняя колонизация в России и волны расселения иностранцев в XVIII—XIX вв.» рассмотрен комплекс вопросов, связанных с мотивацией, разработкой и реализацией Российским государством в XVIII — 1-й половине XIX в. колонизационной (переселенческой) внутренней политики, направленной на освоение, заселение и хозяйственное развитие окраинных территорий. Раскрыта организационная база формирования ареалов расселения российских (этнических) немцев; таким образом, глава предваряет собственно архитектуроведческий анализ переселенческого зодчества, составляющий основное содержание диссертационной работы.
Экстенсивный характер территориального расширения Российской империи, за счет недостаточно освоенных и малонаселенных земель, возвел внутригосударственную колонизацию — присоединение, заселение, плановое обустройство и освоение периферийных территорий — в ключевой принцип развития государства. Интенсивность колонизационного процесса была пропорциональна степени удаленности областей от центра. Вместе с тем, такая удаленность, на фоне слаборазвитой транспортной, производственной, управленческой инфраструктуры, существенно затрудняла спонтанную (помещичью и «вольную») колонизацию. Есть основание утверждать, что наиболее эффективным путем освоения окраинных земель виделась и была правительственная колонизация, представлявшая систему взглядов и мероприятий по организованному, целевому расселению. Становление этой системы потребовало нескольких десятилетий, в течение которых администрация училась на собственном практическом опыте. Отмечается, что неизбежные для раннего этапа просчеты (например, при выборе населенных пунктов для возведения их в ранг уездных городов в ходе Екатерининской губернской реформы) позже компенсировались новыми точно адресованными мерами: так, показательны переселения
конкретных социальных, профессиональных, конфессиональных, этнических групп. Автор полагает, что эталонную группу для исследования представляют иностранные переселенцы, движение которых полностью регламентировалось властями.
Концептуальное привлечение в молодые российские регионы негородского населения из немецких государств — практика, заслуживающая специального анализа. Приглашением иностранцев (земледельцев, ремесленников) на постоянное жительство в Россию не подразумевалось предпочтение именно этой этнической группы, но комплекс фоновых (например, Семилетняя война 1756—1763 гг., разорившая в среднеевропейских странах множество крестьян и горожан) и процессуальных обстоятельств определил абсолютное преобладание выходцев из немецких земель в сообществе мигрантов.
В ходе исследования удалось выявить основные мотивы российской иммиграционной политики, как объективные (политические, практические), так и субъективные; большинство из них сформировалось в ранние годы царствования Екатерины II. Политические мотивы:
— заселение и возможная охрана окраинных (приграничных) территорий (Поволжье, Новороссия);
— внедрение в отдаленные от центра, пестрые. по социальному составу регионы стабилизирующей, относительно «благонадежной» группы населения;
— возможность миссионерской деятельности. Практические мотивы:
— земледельческий подъем целинных территорий;
— создание хозяйственной инфраструктуры;
— относительная мобильность переселенцев — «вольных» граждан европейских государств.
Субъективные мотивы:
— популистские взгляды Екатерины II «в пользу умножения населения», в том числе при использовании «внешних» людских ресурсов;
— влияние учения физиократов о государственном внимании к достижению изобилия «произведений земли»;
— традиционные и непосредственные родственная близость
и сотрудничество рода Романовых и «протестантских княжеских немецких домов»; —' лоббистская заинтересованность правительственных группировок.
Основные инициативы и следовавшие за ними иммиграционные кампании охватывают 1760-е — 1830-е гг. Концепция переселенческой политики в отношении иностранцев была сформулирована в Манифесте 1763 г. и в целой группе раскрывающих и детализирующих его декларативные положения документов.
Авторский анализ позволяет подразделить ход миграций иностранцев в Россию на два этапа, сообразно статистике процесса, адресам «выхода» и размещения групп мигрантов, а также характеру управления переселенческими акциями и самими поселениями — колониями. В 1764—1773 гг. в Россию переселилось 30,6 тыс. человек, в том числе из Рейнской области 28% мигрантов, Северо-восточной Германии — 18%, Южной Германии — 10%; прочие немецкие государства, а также другие европейские страны оказались представлены малыми группами. Приезжавшие размещались в Саратовском Поволжье (более 100 поселений5), Санкт-Петербургской (6 поселений) и некоторых других губерниях; общее число населенных пунктов достигало 115. На этом этапе управление переселенческой кампанией осуществляла специально созданная (1763 г.) и наделенная широкими полномочиями Санкт-Петербургская Канцелярия опекунства иностранных. Ей приходилось решать весь комплекс вопросов, от выработки правового статуса мигрантов и стратегии их территориального размещения до межевания земель для колоний, проектирования их планировочных схем, строительства временных жилых домов.
В ходе исследования выявлен и раскрыт важный принцип, позволявший концентрировать силы и средства государственных ведомств, координировать их действия с представителями на местах, то есть проводить кампанию динамично и эффективно: расселение иностранцев компакт-
5 Приблизительно 26,3 тыс. чел. Для сравнения: население Саратова, на время проведения кампании, составляло около 6 тыс. чел.
ыыми ареалами (однородными в этническом и часто — в конфессиональном отношении) в приоритетных для освоения регионах. Такой подход использовался и при проведении новых кампаний (1789—1842 гг.), проходивших на фоне неоднократной реорганизации системы управления колониями (особенно много изменений претерпели местные попечительские органы). Приехавшие за эти десятилетия 30,8 тыс. переселенцев из Вюртемберга (43%), Восточной Пруссии (14%), Бадена (12%) и других земель разместились преимущественно в Причерноморье и Приазовье (до 130 поселений). Как видно, численность мигрантов обеих волн сопоставима; однако характер этапов различный: учитывая уроки первой кампании, государство впоследствии не форсировало темпы переселения, предпочитая размещать колонии «порциями» в пределах намеченной территории.
Необходимо подчеркнуть, что задуманное и осуществленное локализованное размещение немецких колоний не только устойчиво сохранялось в дальнейшем (колонисты почти не вступали в смешанные браки, зачастую не говорили по-русски и общались с жителями соседних русских или украинских сел лишь по необходимости), но и было воспроизведено (теперь уже сознательно, самими переселенцами) в ходе новых миграций российских немцев, последовавших в 1870-е — 1910-е гг., по ряду рассмотренных в работе причин, в Сибирь, страны Северной и Латинской Америки. Таким образом, в первой главе:
1. Установлена структура внутригосударственной колонизации XVIII — 1-й половины XIX в. в России.
2. Систематизированы, применительно к переселенцам из германских государств, объективные (политические и практические) и субъективные мотивы иммиграционной политики Российского государства.
3. Представлен ход основных кампаний переселения немецких колонистов в Россию; выявлены их региональные организационные особенности, охарактеризованы рассе-ленческие приемы.
4. Проанализирован механизм управления немецкими колониями.
Во второй главе «Формирование и эволюция основных ареалов проживания российских немцев» проанализировано возникновение и развитие системы немецких поселений (колоний) в показательных регионах (Поволжье, Причерноморье, Приазовье, Санкт-Петербургская губерния); обозначены векторы дальнейших переселений представителей этнического сообщества (внутрироссийских, а также в страны Северной и Латинской Америки) в последней трети XIX — начале XX в. Реконструирован расселенческий каркас миграционного процесса.
В тексте диссертации колонии анализируются в составе региональных групп; здесь целесообразно представить сводную классификацию поселений. Исследователи традиционно дифференцируют их по способу образования («коронные», вызывательские, инициативные, пригласительские), по хозяйственной ориентации (аграрные, промыслово-торговые, смешанные — практиковавшие сезонную ремесленную деятельность или отходничество), по порядку (очередности) образования («материнские», «дочерние»). «Материнские» колонии (группы колоний) единовременно, организованно основывались попечением государства; «дочерние» появлялись в результате инициативного отделения хозяйств на соседние территории, а также при переселении колонистов в «третьи» регионы, — последние поселения или их группы именуются в настоящей работе также «наследными».
Новым представляется анализ классификации форм селитьбы, имевших распространение в анализируемых рас-селенческих группах. Автором выделены две принципиально различные категории: компактная и дисперсная. Первая (преобладала в Поволжье и странах Латинской Америки, встречалась в Причерноморье и Санкт-Петербургской 1убернии) собирательно представляет так называемую классическую колонию с компактной прямоугольной, линейной или смешанной регулярной (модульной) планировочной схемой, с селитьбой, композиционно объединенной выраженным центром (площадь, группа общественных построек) и жестко отделенной от земельных угодий (поле, луг, лес). Многообразные проявления второй (хутора в Сибири; поселки меннонитов в Приазовье, переходившие один в другой и покрывавшие всю территорию
расселения единой селитебной тканью; townships в США и Канаде, вмещавшие по 144 стандартных земельных надела (homestead) и также занимавшие огромные площади) идентифицируются как ячеистые структуры, построенные из модульных единиц разного порядка (от нормативного земельного участка до жилого образования в десятки дворов) и самоорганизованные по кустовому принципу. Любая из таких структур тоже имела центральное ядро, только не композиционное, а коммуникационное.
Суммарное количество «материнских» поселений в рассматриваемых ареалах достигало 250; их весомость в структуре расселения соответствующих регионов (на макроуровне) представляется существенной. В ряде мест группы колоний располагались, в соответствии с государственной концепцией, выраженными (локализованными) округами. К примеру, в Поволжье и Приазовье такие образования, как показал анализ, сделались основой последующего расселенческого каркаса территорий.
По мере роста «материнских» колоний усиливалась их дифференциация, подтверждаемая появлением лидеров (поселения городского типа, с населением более 10 тыс. чел.), которые успешно соперничали с уездными городами и представляли реальные центры производственной, торговой активности. Укрепление расселенческой иерархии сопровождалось формированием функциональных узлов, соответствовавших очагам хозяйственной активности.
Отличия колоний, принадлежавших к разным дея-тельностным группам, проявились и в их планировочных, объемно-пространственных качествах, в характере застройки. Так, земледельческие поселения росли экстенсивно — пропорционально населенности и вовлечению все более удаленных от изначального центра земель в хозяйственный оборот. Ткань такого населенного пункта нарастала по принципу подобия; регулярная планировочная сеть смягчалась вкраплениями садов, огородов, выгонов, пашен; при этом центр «размывался», терял свою организующую роль. Напротив, уплотнение ткани промыслово-торговых поселений, сопровождавшееся жестким ранжированием территории на центральную (общественные функции, торговля), селитебную,
транспортную, производственно-складскую зоны, приближало их качество к городскому. Формировалось центральное ядро; регулярная застройка жилых кварталов набирала плотность; благоустраивались улицы и площади. Все значительнее становилась доля капитальных (огнестойких) зданий, — в последней четверти XIX в. она составляла, в отдельных округах, 40—47%.
Зафиксированы выявленные региональные отличия. Так, развитие «северных» колоний обусловливалось хозяйственной деятельностью и территориальным расширением столицы, — для каждого поселения связь с Санкт-Петербургом оказывалась сильнее связей с другими колониями. Это тяготение вполне соотносится с веерной структурой размещения немецких поселений северной группы; большинство их обитателей все ощутимее отдалялось от аграрных занятий, а в начале XX в. несколько поселений фактически вошли в пределы городской черты Санкт-Петербурга.
Исследование показало сравнительно малое функциональное и пространственное дифференцирование поселений Юга, дефицит выраженных колоний-лидеров, приближавшихся к городскому масштабу и уровню жилой среды. Стоит заметить, что замысел постепенного преобразования некоторых южных колоний в города отсутствовал как в стратегии администрации, так и в сознании самих колонистов (сельских хозяев), комфортно ощущавших себя в камерном пространстве небольших самодостаточных селений. Статистические подсчеты показывают, что на рубеже XIX—XX вв. среднее население южной колонии достигало 600 чел., поволжской — превышало 2000 чел. Для причерноморской, приазовской групп показательна также тенденция отделения и роста крупных единовладельческих хуторов, экономий, типологически сопоставимых с помещичьими усадьбами.
В работе прослежены векторы последовавших с 1870-х гг. передвижений российских немцев из первоначальных ареалов расселения. Внутригосударственные миграции направлялись на Южный Урал, в Сибирь; ощутимые масштабы приобрело движение в города. Эмиграционные потоки стремились в страны Америки — США, где начиналось освоение новых штатов Среднего Запада, Канаду, Аргентину,
Бразилию. В соответствующих разделах диссертации проанализированы особенности расселения российских немцев в «наследных» ареалах, даны развернутые характеристики «обновленных», но сохранивших свою характерность форм населенных пунктов. Так, в Азиатской части России поселки мигрантов с Волги вырастали в относительно крупные (до 1000 жителей) пункты, воспроизводившие традиционные планировочные схемы. Южане, напротив, стремились к размещению хуторами. Показательно, что эволюция застройки, от временной до капитальной, соотносится именно с дроблением их первоначальных сел и строительством «второй очереди» жилья на хуторах и заимках.
Поселения российских немцев в США и Канаде характеризовались существенно меньшей, чем в районах «выхода», плотностью размещения (что не мешало композиционной упорядоченности) и модульным устройством, кратным новой селитебной единице — ферме. Типично образование, представленное многоуровневой композицией: единая селитебная площадка с населением до 1000 чел. (township) — жилая группа (секция) — ферма. Величина последней обычно соответствовала нормативной площади земельного надела (homestead), равной 160 акрам (64,4 га). Ближайшим аналогом видится традиционная линейная схема пр>иазовских поселений меннонитов — с поправкой на увеличившуюся как минимум вдвое площадь участков. Исследователь процесса заселения территорий Среднего Запада США Г. Леман полагает, что такому «фермерскому району» не хватало как внутренней сплоченности, так и внешних границ. Однако эти недостатки компенсировались гомогенным расселением, в котором реализовалось стремление российских немцев группироваться привычными способами (кооперироваться по земляческому, конфессиональному принципу), в соответствии с устойчивой деятельностной и селитебной ориентацией.
В страны Латинской Америки была транслирована, в качестве основной формы организации селитьбы, компактная колония классического образца. Ее планировочные разновидности — прямоугольно-ячеистая в аргентинской пампе и линейная в бразильском ареале, где поселения устраивались в
нешироких речных долинах, — отвечали ландшафтной ситуации места. Отступления от таких схем встречались лишь в заселенных относительно поздно (1920-е — 1930-е гг.) местностях проживания меннонитов, где жилые группы, поначалу организованные по упрощенному варианту североамериканских композиций, со временем качественно и типологически модифицировались в помещичьи усадьбы.
Миграции колонистов в города приобрели ощутимый масштаб, начиная с середины XIX в., хотя фрагменты компактного проживания немцев-ремесленников, торговцев, специалистов в отдельных центрах (районы, улицы или слободы в Санкт-Петербурге6, Одессе и Саратове, кварталы в Екатери-нославе, Самаре, Царицыне) существовали и раньше. В других городах рассматриваемых в работе регионов фрагменты подобной селитебной локализации представителей немецкой диаспоры не идентифицируются. Дома бывших колонистов, вынужденных селиться (во 2-й половине XIX в.) на отведенных им «случайных« местах, обычно уже не представляли образного единства, — город, изменяя характер жизни этнических немцев, постепенно нивелировал и традиционный характер их жилой застройки.
Таким образом, во второй главе:
1. Проанализирован, на материале показательных ареалов (Поволжье, Причерноморье и Приазовье, Санкт-Петербургская губерния), процесс формирования локализованных групп немецких поселений в России.
2. Приведена классификация колоний, в развитие которой предложена систематика форм селитьбы, имевших преимущественное распространение в анализируемых рас-селенческих группах.
3. Подробно рассмотрены обстоятельства и результаты эволюции основных видов поселений (земледельческих, про-мыслово-торговых и др.).
4. Выявлены факторы, обусловившие «центробежные» миграции российских немцев в пореформенные десяти-
б Абсолютное большинство петербургских немцев, даже имевших российское подданство, составляли не бывшие колонисты, а представители иных социальных групп.
летия.
5. Реконструированы характерные для «наследных» ареалов формы расселения российских (этнических) немцев.
6. Делается вывод о безусловной преемственности эволюции поселенческих ареалов, которая выражалась как внутри каждой территориальной группы, на любом хронологическом этапе ее развития, так и при трансляции форм расселения в ходе очередных миграций.
В третьей главе «Архитектурные прототипы и особенности их трансляции» исследован опыт планировки поселений, типы жилых домов и дворов, виды традиционных общественных построек, характерные для основных ареалов «выхода» мигрантов — Рейнской области, Пруссии, Бадена и других. Этот материал впервые предстал предметом исследования в отечественной, а применительно к зодчеству российских (этнических) немцев — в европейской архитек-туроведческой науке.
Принципиально важным для аутентичного понимания и всестороннего раскрытия объекта исследования представляется анализ традиционной архитектурно-строительной культуры немецких земель, по ее состоянию на период трансляции прототипов (середина и 2-я половина XVIII в.).
Материал наследования подобран и сгруппирован по территориально-кустовому признаку (например, Нижняя Германия, Рейнгау, Шварцвальд и т.п.), — такой методический прием позволил, по мнению автора, наиболее точно отразить внутригрупповую общность прототипов, основанную на эсте-тико-мировоззренческих типообразующих факторах (образ жизни, ментальность, конфессиональная принадлежность). Подразумеваются здесь и ландшафтные, климатические обстоятельства места, а также эмпирические особенности строительной практики, персонифицирующие инициативное зодчество. Опираясь на классические и современные труды по немецкой народной архитектуре, а также на материалы собственных натурных обследований, автор выявил, систематизировал и охарактеризовал преобладавшие в середине — 2-й половине XVIII в. типы негородского поселения (Einzelhof, Haufendorf, Reihendorf, Straßendorf, Streusiedlung), двора
(центричный, анфиладный, Г- и П-образный и т.д., различавшиеся, кроме того, по степени композиционной открытости (замкнутости)), жилого дома (Ernhaus, Hallenhaus, Wohnstallhaus и др.), культового здания (зальный, базили-кальный, смешанный). Один и тот же тип мог встречаться в разных районах, однако замечено, что комбинация типов (своего рода «генетический код» места) всегда уникальна. Поэтому бесперспективно было бы ожидать, что при трансляции явления его аутентичные фрагменты могут появиться на новой почве. Условия места назначения, обстоятельства жизни и строительства в российских ареалах локализованного проживания этнических немцев сказались на «чистоте» явления, — можно утверждать, что распространение и развитие получили оптимальные, наиболее устойчивые типы.
Обращает на себя внимание «перекрестный» характер трансляции планировочных типов поселений: в ходе раннего этапа миграций (в Саратовское Поволжье, Санкт-Петербургскую губернию, Приднепровье) воспроизводились развитые схемы (Straßendorf, Reihendorf); позже (в Причерноморье, Приазовье) — более архаичные — Streusiedlung, Reihensiedlung. Такая динамика востребованности как будто не вполне совпадает с предположением о соответствии планировочных типов новых населенных мест тем, которые преобладали в обозреваемых районах «выхода» колонистов. Однако контекстуальный анализ переселений, учитывающий сумму факторов, способных определить выбор композиционной формы колонии и дальнейшую динамику ее развития, реабилитирует логику процесса. Ранние ареалы обустраивались, в ожидании переселенцев, «под ключ»; важнейшим условием были сжатые сроки распланирования поселений и их первоначального наполнения застройкой. Современная, апробированная накануне рассматриваемых событий в Восточной Пруссии, приспособленная к практике быстрой, целенаправленной разбивки и застройки нового населенного пункта схема Straßendorf идеально подходила к случаю.
Мигранты второй волны (1-я четверть XIX в.) оказались несравнимо свободнее пионеров в выборе формы поселения, в реализации своих понятий об удобной селитьбе. Населенные пункты, которые были в этот период небольшими, застраи-
вились по схемам Reihensiedlung или Streusiedlung. Проявилось и новое качество, которое определено в работе как связность, системность каждой из территориально обособленных групп поселений, дельность расселенческого поля. Пространственно-планировочные границы колоний размывались, интервалы между соседними поселками оказывались предельно малыми, условными. В конце XIX в. и особенно в годы столыпинской реформы наиболее популярной формой поселения сделался хутор, композиционно сопоставимый с упомянутым типом Einzelhof — самодостаточным, свободно скомпонованным, открытым к развитию единовладельческим комплексом жилых и хозяйственных построек.
Метаморфозы, происходившие с жилым домом, наглядно иллюстрирует эволюция одного из прототипов — Wohnstallhaus. Основной принцип его организации — объединение под общей крышей, в одном сооружении основных и вспомогательных помещений — устойчиво сохранялся. Однако в основных российских районах распространения таких домов (Приазовье, Приднепровье) изначальная ассоциативность планировки со схемой базиликального храма (пропорции, членения объема, взаиморасположение осей, входов, размещение печи точно на алтарном месте7 и др.) становилась менее очевидной. Речь идет не столько об упрощении плана, сколько об изменении приоритетов, перераспределении функциональных зон сообразно новым бытовым условиям и хозяйственным потребностям. Не последнюю роль играли здесь и особенности строительных материалов, доступных в данной местности. Результат соотносится, скорее, с южногерманской разновидностью типа — т.н. «шварцвальдским» домом (Schwarzwaldhaus). В относительно компактном сооружении выносилась вперед (к улице) и доминировала жилая половина; задние сени соединялись узким коридором с помещениями для скота; въездные ворота в торцевой стене самого дома более не устраивались; оба независимых входа (в жилую и хозяйственную половины) располагались по длинной (дворовой)
7 В традиционном зодчестве многих народов печь (очаг) является важнейшим не только функциональным, но и символическим элементом интерьера.
стороне дома и решались единообразно.
В специальном разделе работы раскрыты композиционные особенности зданий протестантских (лютеран, мен-нонитов, гернгутеров) и католических церквей и молельных домов. Вариантность способов размещения в ткани немецкого села этих важнейших объектов, многообразие формальных приемов их трактовки, конструктивных решений неотрывны от региональных ландшафтных особенностей, исторических (ставших ментальными) представлений об образе храма, строительных возможностей — и, в первую очередь, от конфессиональных норм. Протестантское понимание назначения культовой постройки (дом общины) и связанная с ним универсальность функциональной схемы сводили композиционные поиски к упрощению, ясной геометризации планов, реализуемой в двух компактных пространственных вариантах — зальном и, реже, крестообразном. Обусловленная каноном репрезентативная роль католической церкви (дом торжественной мессы) предопределяла деление объема на две половины — алтарную и собственно «корабль», где находилась кафедра проповедника. Этим условием осложнялось осуществление принципиальных (пространственных, планировочных) модификаций традиционного типа — трехнефной базилики. В российских ареалах возводились, на средства приходов, церкви, в решениях которых ощутимы попытки «припомнить» исконные для этноконфессиональных групп приемы организации масс, сохранить принципы устройства интерьеров, моделировать образные элементы, цитировать формы и декор «домашних» объектов.
Наряду с программным или спонтанным, комплектным или фрагментарным заимствованием типов поселения, двора, жилого дома, хозяйственных построек, общественных зданий, осуществлялась трансляция в российские регионы техник и приемов строительства, связанных с применением привычных переселенцам материалов.
Представляется корректным вывод автора о достаточно выраженном, хотя и не тотальном, проходившем сквозь фильтр объективного отбора и утверждавшемся либо опровергавшемся практикой поколений, воспроизведении традиционных для мест «выхода» мигрантов архитектурных
прототипов в поселениях немцев в России. Разумеется, транслированные качества, предпочтения, модели приметно менялись в процессе многолетней адаптации этнического сообщества к жизни в российских условиях, складывались в новое сбалансированное целое, формировали самостоятельный и узнаваемый язык переселенческого зодчества. Компоненты этого языка невозможно напрямую сопоставлять, тем более соединять в цепь как с единицами базового для него культурного поля, так и с категориями, представляющими многосложную российскую архитектурно-строительную практику, на фоне которой явление развивалось в XIX в. Таким образом, в третьей главе:
1. Очерчен круг характерных для времени и места «выхода» мигрантов типов негородских поселений, жилого дома и двора, культовой постройки.
2. Раскрыт механизм внутренней эволюции перечисленных типов в местах «выхода», под влиянием исторических условий, ментальных и конфессиональных представлений, строительного опыта и других факторов.
3. Основные типы исследованы и систематизированы по их состоянию на время начала миграций — середину XVIII в.
4. Представлена логика поэтапного переноса, воспроизведения и саморазвития черт традиционного зодчества.
5. Делается вывод об интродуктивном характере «вживления» транслированных качеств и приемов в материальную культуру российских регионов.
6. Реконструирована модель формирования самостоятельного, устойчивого и достаточного для дальнейшего воспроизведения языка переселенческого зодчества.
Четвертая глава «Переселенческая архитектура и государство» посвящена анализу вертикальной составляющей формирования и эволюции архитектурной среды немецких колоний, размещенных в показательных российских ареалах (Поволжье, Санкт-Петербургская губерния, Причерноморье, Приазовье), а также некоторых групп (внутригосударственных и зарубежных) «наследных» по отношению к ним поселений. Рассмотрено соотношение государственной инициативы (мо-
дель, регламентация, образец), культурного, профессионального фона (стиль, проектирование) и практики массового (инициативного) строительства в перечисленных регионах. Определены условия устойчивости явления, раскрыт механизм обратной связи.
Российские регионы, избранные для размещения иностранных колонистов, стали полем проведения крупномасштабного расселенческого, проектного, строительного эксперимента: попытка комплексного устройства групп новых населенных пунктов имела, на фоне подготовки губернской реформы, очевидную методическую ценность. Фактически, с акцией соотносим важный «предгородской» этап апробации приемов западноевропейского «регулярства» (субординация пространств, выделение центра, геометризация уличной сети, плотная квартальная застройка и др.). Акция была осуществлена компетенцией военных инженеров и землемеров, собранных в 1764 г. Санкт-Петербургской Канцелярией опекунства иностранных в специальную команду. Проектировщики разработали «примерный» (модельный) план колонии, участка-домовладения, составили расчетные таблицы материалов и сметы для возведения жилой единицы (дома с хозяйственными постройками). Удалось установить, что для большинства колоний первой генерации (в том числе, для всех поволжских) специально готовились планировочные чертежи (немедленно реализованные); схожие мероприятия распространялись и на колонии, устроенные государством в ходе переселенческих кампаний конца XVIII — 1-й трети XIX в. Канцелярия обеспечивала и строительство временных («казенных») жилых и молельных домов для колонистов.
Итак, можно констатировать всеобъемлющее попечительство администрации (центральной и местных опекунских контор) в отношении «материнских» поселений. Однако, по истечении периода основания колоний (от двух до трех десятилетий, в зависимости от региона) внимание к ним со стороны государства стало ослабевать. Оно ограничивалось сбором ежегодных статистических отчетов о динамике строительства и отдельными ревизионными поездками чиновников.
Во внутрироссийских и «внешних» регионах располо-
жения «дочерних» колоний усилия государственных структур и организаций по заселению и стартовой поддержке были избирательными, минимизировались и никогда не приближались к цельности и методичности мероприятий раннего этапа колонизации. В общем случае, централизованно лишь межевались земельные участки, отводимые государством для устройства новых населенных пунктов. Причем обычно это касалось крупных поселений, а не частновладельческих хуторов или их спонтанно сложившихся групп.
В США и Канаде переселенцы могли также обеспечиваться за счет осваивающих новые штаты и «территории» железнодорожных компаний временным жильем барачного типа. Вообще, в странах американского континента образование поселений иностранцев не связывалось с решением стратегических задач создания или апробации новых градостроительных подходов, не было концептуальным. Государство не организовывало расселенческих структур и не моделировало планировочных приемов, а лишь давало свободную (хотя и контролируемую сверху) возможность самоорганизации возникавших систем. Компактные ареалы размещения мигрантов, типология планировки с мл их населенных пунктов, принципы их застройки преимущественно определялись местными особенностями землевладения и стремлением самих обществ (национальных, конфессиональных) к гомогенности и относительной локализации, к воспроизведению привычного стиля жизни, устройства и образа поселения. Практика попечительства, в обрисованных выше формах, была здесь нереализуема; никаких специальных государственных попечительных органов не существовало. К тому же сами поселенцы продемонстрировали беспрецедентные адаптационные качества. Типологически выраженные села («классические колонии») встречались нечасто, зато развивалось и скоро стало преобладающим обусловленное самим способом отвода и, соответственно, административно-территориального деления земель кустовое расселение: группа самодостаточных семейных хозяйств (ферм), скрепленных локальным центром.
Исследование показало, что в 1-й трети XIX в. неоднократно предпринимались попытки централизованно разрабо-
тать и внедрить типовые проекты зданий для колоний. Так, в 1820 г. в Строительном Комитете были подготовлены «планы и фасады для построения в саратовских колониях сельских домов»; отдельные проекты адресовались и причерноморским поселениям; однако эта инициатива не нашла применения на местах. Более того, жители соседних с колониями поселений все чаще возводили дома «на немецкий манер» (например, глинобитные, из сырцового кирпича). В результате органы управления колониями вынуждены были констатировать тщетность своих попыток типизировать жилые постройки; примечательна одна из статей опубликованного в 1857 г. Устава о колониях иностранцев в Российской империи: «Головы и Шульцы обязаны колонистов приучать, чтоб сообразуясь с обычаем тех мест, отколь они выехали в Россию, в каменных строениях сохраняли тот же образ, какой там употребляется». Этим узаконением подтверждалось право колонистов на свободный выбор типов и стилистики своих домов. Неуспехом закончились и административные усилия по регламентации строительства культовых объектов.
Отдельного комментария требует проектное обеспечение застройки немецких поселений. Из-за недостатка в провинциальных российских регионах профессиональных архитекторов, их участие в проектировании объектов для колоний имело до середины XIX в. спорадический характер, ограничивалось разовыми поручениями центральных и местных органов управления, заочным составлением типовых или согласованием индивидуальных проектов. Удаленность объекта от архитектурного центра (например, от столичного города) всякий раз объективно усложняла привлечение профессионала для конкретных работ. Большинство рутинных вопросов строительства в немецких поселениях регулировалось, в такой ситуации, землемерами местных опекунских контор. Так, непосредственное участие приглашенных и местных архитекторов в составлении специальных или адресной привязке образцовых проектов для поволжских колоний, на протяжении 1-й половины XIX в., не зафиксировано. В исключительном положении оказались колонии Санкт-Петербургской губернии, где ряд специальных (церкви) и массовых (жилые дома) сооружений был построен при помощи ведущих
столичных мастеров — А.И. Мельникова, В.П. Стасова. В последующие (пореформенные) десятилетия доля участия архитекторов в проектировании для немецких поселений заметно возросла; особенно показательны культовые здания и производственные сооружения (заказчиками которых были, соответственно, приходы и предприниматели). В «наследных» ареалах к строительству церквей как наиболее значимых для общин сооружений привлекались, от случая к случаю, профессиональные проектировщики; массовые типы развивались относительно автономно, руководствуясь опытом сообщества и этнической традицией.
Основные типы населенных мест (село, хутор и др.), их компонентов (улица, двор) и самих сооружений (церковь, жилой дом, хозяйственные и производственные постройки) в обжитых этническими немцами ареалах представляют самостоятельный интерес для исследования. Как показал анализ, перечисленные типы, формируясь в процессе саморазвития архитектурно-строительной практики в колониях, встраивались в нормативно-типологический ряд, предлагаемый «сверху» (планировочные схемы колоний, образцовые проекты, строительные правила). Результатом такой суперпозиции становился набор устойчивых элементов, определявших образную и композиционную узнаваемость поселений не только первой, но и последующих генераций, их преемственность.
Воспроизведение традиционных типов поселений (Haufendorf, Straßendorf, Einzelhof) не противоречило предлагаемым государством «сверху» образцовым проектам и схемам. Например, квартальная застройка сел была экспериментальной для российских ареалов; однако самими колонистами такая структура воспринималась как естественная. Достаточно припомнить селения 1740-х гг., которые активно вводились, по инициативе Фридриха И, на присоединенных к Пруссии территориях. Планировка «фридрицианских» колоний (Straßendorf) основывалась на крестообразном взаиморасположении главных улиц-аллей, при пересечении которых формировалась площадь; кварталы застраивались регулярно. Поселения такого рода преобладали в Поволжье; более простая их разновидность (Reihendorf) стала характерной для Причерноморья и Приазовья. В «дочерних» группах распространились
поселки с рассредоточенной застройкой, представимой как совокупность нескольких хуторов. Они близки по своей структуре к немецкому типу Streusiedlung.
Двор (шире — участок-домовладение) — элемент архитектурно-планировочной структуры колоний, который менее всего подвергался нормативным вмешательствам управленческих институтов. Вследствие этого, композиционная чистота и узнаваемость дворовых участков сохранялась, в широком типологическом диапазоне, во всех рассматриваемых регионах проживания российских немцев. Только в «Плане двух домов с хозяйственными постройками» (1764 г.) Канцелярия опекунства иностранных предлагала свой вариант планировочной организации внутриквартального пространства; эта схема использовалась при возведении временных («казенных») жилых домов для колонистов. В дальнейшем обитателям колоний было предоставлено право самостоятельно выбирать способ застройки участков, — оговаривались лишь их величинные параметры (площадь, соотношение длины и ширины), необходимость устройства противопожарных разрывов между строениями и некоторые другие, менее значимые детали.
Важную роль в планировочной организации двора играло традиционное взаиморасположение жилых и хозяйственных построек и помещений, наследованное из регионов «выхода» мигрантов. В поволжских колониях все постройки компоновались по периметру участка; в южных поселениях они размещались линейно (поперечно улице); у меннонитов чаще встречался характерный угловой тип.
Нечто похожее происходило и с жилыми домами. Повсюду, после недолгого периода проживания во . временных строениях, колонисты будто бы инстинктивно начинали воспроизводить дома из собственного типологического набора. Наиболее заметным элементом любого из таких сооружений была высокая щипцовая или вальмовая крыша; чердачное помещение отводилось для складских (амбар, сеновал) и иных (коптильня) хозяйственных функций. Ничего подобного не существовало в традиционных русских или украинских домах. Планировочные разновидности жилого дома представлены большим количеством вариантов.
В американских ареалах мигранты воспроизводили, с некоторыми изменениями, уже российские прототипы. Вторично «импортированные» виды построек успели стать массовыми в Северной и Южной Дакоте, Канзасе, Колорадо, канадских ареалах; их типологическая чистота сохранялась на протяжении 4—5 десятилетий. В латиноамериканских группах дома российских немцев отличались, например, двухскатной крышей (традиционные аргентинские или бразильские жилые постройки имели плоскую кровлю). Меннониты селились здесь отдельными усадьбами и придерживались собственной консервативной схемы жилища.
Материалы исследования со всей очевидностью показали, что при возведении общинных зданий — приходских и филиальных храмов, молельных домов, школ, пасторатов, кладбищенских часовен и других — переселенцы опирались на собственные устойчивые, априорные понятия об их пространственной модели и способах внутреннего устройства. Прототипами являлись, преимущественно, сельские постройки, которые издавна возводились сообща, силами местных мастеров. Впрочем, типология могла задаваться и жестко, определяясь консервативной традицией конфессиональных «братств» или групп. Так, например, гернгутеры и меннониты практиковали строительство зальных церквей по собственным канонам. К массовым типам можно отнести: в Поволжье и в Сибири — церковь или молельный дом с отдельно расположенной рубленой колокольней (Бопёе^оскепЬдгт); в южных колониях — комплекс из церкви и школы. Он был окружен каменной оградой, в которую встраивалась колокольня. Отличием интерьера церквей была галерея (эмпоры). Органы, скульптуры, кафедры, алтари и другие элементы убранства храмов нередко производились, по прямым заказам общин, германскими или прибалтийскими фирмами.
Изучение разнохарактерных источников, в сочетании с натурным обследованием ряда объектов, позволили автору сделать заключение о самобытной строительной культуре этнического сообщества. Выявлена широкая палитра техник и способов возведения зданий, методик работы с материалом, конструктивных приемов. Выяснилось, что с начальных лет своего обустройства в российских ареалах переселенцы тя-
готели к огнестойкому строительству, реализуя его в любых доступных материале« (природный камень — известняк или ракушечник, глина), нередко в их комбинации. К середине XIX в. предпочтительным стало строительство из обожженного кирпича, изготавливаемого на местах. Капитальное (каменное) строительство, доля которого достигала в некоторых группах колоний 40% и более, автор считает одним из принципиальных качеств застройки немецких поселений в России.
Набор «изобретенных» российскими немцами технологий, приемов оказался незаменимым при их позднейших перемещениях, облегчил адаптацию мигрантов. Немцы из России оказались, по оценке ряда исследователей, лучше подготовленными для выживания и преуспевания в ландшафте североамериканских прерий, чем представители всех прочих иммигрантских этнических сообществ. Поволжские, причерноморские, приазовские переселенцы изобретательно и разнообразно использовали материалы из местных ресурсов для воспроизведения, с непринципиальными модификациями, собственных приемов строительства. Накопленный ранее опыт и приобретенные за десятилетия жизни в российских условиях навыки трудно переоценить.
Таким образом, в четвертой главе:
1. Раскрыты механизм и особенности специального проектирования, предшествовавшего организованному поселению иностранцев или сопровождавшего создание колоний.
2. Проанализировано содержание целевого проектирования для колоний; выявлены формы адаптации образцовых проектов к условиям практики.
3. Определены стилевые качества переселенческой архитектуры; делается вывод об ее синтетическом характере, сложившемся, главным образом, на традициях позднего немецкого барокко, ганзейской «кирпичной» архитектуры — и воспринявшем черты русского провинциального классицизма.
4. Установлены опорные (наиболее массовые и устойчивые) типы планировки поселения, двора, жилого и культового здания, сформировавшиеся в основных российских ареалах размещения «материнских» колоний и транслирован-
ные в «дочерние» поселения. 5. Представлена характеристика традиционной строительной практики колонистов. Ее основа, определившаяся в рассмотренных «материнских» ареалах (Поволжье, Приазовье и др.), сохранилась почти в неизменности при переселениях этнических немцев в Азиатскую часть России и на американский континент.
В заключении обобщены основные результаты исследования, предлагаются выводы по работе.
В ходе работы идентифицирован архитектурно-градостроительный феномен немецких поселений в России; обоснована системность явления; комплексно исследован процесс эволюции переселенческой архитектуры, включая ее элементы, транслированные в «третьи» страны и регионы.
Приглашению иностранцев на жительство в регионы Российской империи придавалось во 2-й половине XVIII — начале XIX в. исключительное государственное значение. Условия таких инициатив широко оглашались в Европе, но абсолютное большинство переселившихся составили выходцы из германских государств. Малая заселенность периферийных регионов (Поволжье, Причерноморье, Приазовье и другие) обусловила автономный компактный характер размещения групп поселений (колоний), что впоследствии предстало первостепенным фактором их интенсивного развития. Так, относительная локализация немецкого «элемента» среди соседних этнических групп (русские, украинцы, поволжские и крымские татары, калмыки и другие), подкрепленная реальным самоуправлением колоний, смягчила ассимиляционный эффект, — важное обстоятельство для репродукции материальной культуры.
Обращает на себя внимание планомерность, предрас-считанность кампаний переселения и основания населенных пунктов — инициировались ли они государственными ведомствами или сообществами мигрантов; во втором случае константной была самоорганизация участников процесса. Создание компактных ареалов проживания планировалось изначально, причем поселенцам . предлагалась или же доставалась функция первопроходцев (колонизация целинных
окраинных территорий); преимущественный род занятий колонистов был аграрным. Основные (фоновые) градостроительные факторы, формировавшие и удерживавшие каркас расселения в районах размещения колоний, варьировались во времени. Факторы, первоначально подразумевавшиеся организаторами кампаний поселения, позже дополнялись либо объективно заменялись новыми. Среди них: наличие по соседству с пятном гомогенного немецкого расселения крупного-города, с системой производственных объектов, рынком труда и реализации товарной аграрной продукции; близость транспортно-складского пункта (речной пристани, морского порта, железнодорожной станции). В ряде случаев благоприятное сочетание нескольких факторов имело результатом появление на местах собственных узловых образований, становившихся, в свою очередь, фактором развития системы расселения более крупного масштаба (губерния, провинция, штат).
Цельность рассматриваемых национально-территориальных образований обеспечивалась однородным этническим составом обитателей и их безусловной возможностью группироваться по земляческому (место «выхода») и конфессиональному признакам, — в ряде мест своего компактного проживания немцы оказывались, фактически, количественно преобладающей группой. В свою очередь, она (территориальная, этническая и социальная цельность), в сочетании с самоуправлением обществ свободных сельских хозяев, облегчала воспроизведение, без принципиальных трансформаций, привычных форм поселений. Этому могли бы помешать объективные особенности конкретных мест — главным образом, ландшафтные. Но их сопоставление, на материале различных регионов, показывает тождественность селитебных предпочтений, ограничений и допусков в условиях российских степей, североамериканских прерий и южноамериканской пампы.
Дифференциация колоний — по способу образования, по порядку (очередности) основания, по хозяйственной ориентации (аграрные, промыслово-торговые, смешанные) — справедлива для всех регионов; менялся лишь баланс поселений, представлявших разные категории. Например, в США доми-
нировали инициативные поселения, в то время как в Канаде или Аргентине их соотношение с пригласительскими было почти равным. Автором предложено, ориентируясь на основные пространственно-планировочные разновидности колоний, дифференцировать компактную и дисперсную формы селитьбы.
Осуществленное диссертантом исследование позволило представить модель трансляции и стабильного саморазвития немецкой этнической архитектурно-строительной культуры. На всех этапах развитие архитектуры поселений российских немцев определялось балансом трех составляющих: потенциала самого национального сообщества («привнесенный» традиционализм); характера и интенсивности отношений колонистов с соседними этническими группами; степени вмешательства администрации и других государственных институтов (в формах регулирования, проектирования, контроля). Такая модель применима к анализу явления и в «наследных» странах и регионах.
Вначале, в период основания колоний, определяющей была государственная инициатива, которая нашла выражение в последовательной и стройной концепции заселения и устройства новых населенных мест. Позже, с предоставлением колониям самоуправления, прекращением государственной поддержки, наступил черед материализации привнесенной традиции, конфессионального опыта, бытового уклада этнических немцев. Этот устойчивый и активный потенциал ощутимо реализовался в типологии построек, особенностях планировки домовладений; детерминировал декор зданий, формы благоустройства населенных пунктов. На формирование переселенческой архитектуры влияли местные природно-климатические условия, специфика доступных строительных материалов. Показательно обращение к «европейского вида» капитальной (огнестойкой) застройке, безошибочно выделявшей колонии на фоне соседних селений. Эти основные характеристики соответствуют продолжительному (до конца 1860-х гг.) этапу стабильного саморазвития явления в сообществах «материнских» колоний («сельский» или «колониальный» этап). Ко времени его завершения в региональных группах поселений сложилась зримая школа немецкого строительства;
дифференцировались (в том числе по характеру застройки) функциональные виды колоний; формальные признаки, обогащенные местными элементами, приобретали черты нового, единого выразительного архитектурного языка, синтезировавшего традиции позднего немецкого барокко, ганзейской «кирпичной» архитектуры и черты русского провинциального классицизма.
На следующем («городском») этапе алгоритм развития переселенческого зодчества изменился. Фактор русификации, возведенной в ранг государственной политики, отчасти нивелировал его этническое своеобразие, но и провоцировал реакцию, выражавшуюся в намеренном использовании упомянутого формального языка в городских и даже сельских постройках. С 1870-х гг. эволюционирует, по ряду причин (перенаселенность национальных районов, потеря колонистами льготного правового статуса и самоуправления, эскалация антинемецких настроений в обществе), новая фаза миграций: их векторы стремились теперь из Поволжья, Причерноморья, Приазовья в «третьи» регионы (Азиатская часть России) и страны (преимущественно США, Канада, Аргентина, Бразилия). Установлено с определенностью, что мигрантами транслировался багаж представлений и умений (стилевые предпочтения, планировочные и объемно-пространственные шаблоны, строительные технологии и приемы), обусловленный опытом «сельского» этапа переселенческой архитектуры. Позже, переселенцами 1910-х — 1920-х гг., перенималась уже архитектура, устоявшаяся на своем «городском» этапе. Таким образом, явление переживало второй виток развития, когда в качестве прототипа выступала материальная культура, успевшая сложиться в российском эпицентре.
Можно констатировать преобладание внутренних эволюционных изменений в архитектурно-строительной культуре российских немцев. Этнокультурная традиция, «законсервированная» в прочном бытовом укладе и мировоззрении гомогенных сообществ, а позже усиленная всплеском национального самосознания, оказалась устойчивой ко внешним воздействиям и даже способной, в ряде случаев, влиять на окружение, — об этом свидетельствует практика строительства в городах и селах на «немецкий манер». Динамические
процессы, результатом которых предстала немецкая переселенческая архитектура, опирались на логичную модель переноса и саморазвития явления. Исследование показало также относительное преобладание в эволюционном механизме феномена вертикальной составляющей (администрация — колонисты) над горизонтальной (немцы — соседние этнические группы).
Диссертационное исследование, проведенное на обширном и показательном материале архитектурно-строительной практики российских немцев, позволяет сделать заключение о принципиальной возможности, при наличии соответствующих предпосылок и условий (исторических, организационных), переноса этнической архитектурной традиции в новые регионы и страны и ее преемственного развития в системе инокуль-турного окружения.
ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Монографии, брошюры
1. Поселения немцев в России. Архитектурный феномен. — Саратов: Кадр, 1999. — 216 с.
2. Deutsche Architektur an der Wolga. — Berlin, Bonn: Westkreuz, 1993. — 88 S. — на нем. яз.
3. Века и камни. Памятники архитектуры Саратовской области. — Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1990. — 152 с.
4. Региональная архитектура. Национально-региональные особенности архитектуры Саратовского Поволжья: Метод. указ. — Саратов: СГТУ, 1995. — 18 с.
5. Градостроительное развитие Саратовского Поволжья во второй половине XVIII — первой половине XIX века. — Автореф. дис. канд. архитектуры. — М.: ВНИИТАГ, 1990. — 28 с.
6. Deutsche Kirchen an der Wolga. — Stuttgart: Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland, 1994. — 26 c. — на нем. яз.
7. Современные проблемы истории и теории архитектуры: Консп. лекций. — Саратов: СГТУ, 1998. — 40 с.
Статьи в научных сборниках и периодической печати
8. Дважды переселенные// Волга. — Саратов, 1989. № 7. С. 131—143.
9. Meines Herzens tiefes Leid. Deutsches architektonisches Kulturerbe an der Wolga: Gestern, heute... Morgen?// Freundschaft. — Алма-Ата, 1990. No 94, 95. — на нем. яз.
10. Столикий город// Волга. — Саратов, 1990. № 5. С. 168— 178.
11. Die Architektur der deutschen Umsiedler// Heimatliche Weiten. — M.: Правда, 1990. № 1. C.230—242. — на нем яз.
12. Entstehung und Entwicklung der Umsiedler-Architektur in den deutschen Wolga-Kolonien// Zeitschrift für Kunst-
geschichte. — München, 1991. Bd.54, Heft 1. S.l—19. — на нем. яз.
13. Развитие Саратова по плану 1812 года// Четыре века. — Саратов: СГУ, 1991. С.101—115.
14. Немецкая архитектура в Саратовском Поволжье: опыт идентификации// Культура русских и немцев в Поволжском регионе. — Саратов: ПКЦ, 1993. С. 149—189.
15. Переселенческая архитектура в немецких колониях Поволжья// Немцы в России: историко-культурные аспекты. — М.: ИНИОН„РАН, 1994. С. 110—126.
16. Die Typologie der deutschen Bauwerke im Wolgagebiet// Zwischen Reform und Revolution: die Deutschen an der Wolga 1860—1917. — Essen: Klartext, 1994. S.205—222. — на нем. яз.
17. Siedler-Architektur an der Wolga im Zusammenhang mit der deutschen materiellen Kultur// Forschungen zur Geschichte und Kultur der Rußlanddeutschen. — Essen: Klartext, 1994. Heft 4. S.164—166. — на нем. яз.
18. Вольск — город классицизма в Поволжье// Архитектурное наследство. Вып.38. Проблемы стиля и метода в русской архитектуре. — М.: Стройиздат, 1995. С.323— 332.
19. Города Саратовского Поволжья. Архитектурный путеводитель// Волга. — Саратов, 1995. №5—6. С.78—104; № 8—9. С. 135—153; 1996. № 5—6. С. 157—177.
20. Планувальний розвиток шмецьких колоний у Поволжяа// Шмецьга колони в Галичиш. — AbBiB: Манускрипт, 1996. С.334—342. — на укр. яз.
21. Немецкие колонии на Волге в 1830-е годы (строительство и архитектура)// История и культура российских немцев. Вып.Ш. 4.1. — Саратов: ПАГС, 1996. С.38—55.
22. Архитектура и культурная ассимиляция немцев в России (на примере Поволжья) / / Архитектура в истории русской культуры. — М.: НИИТАГ, МАРХИ, 1996. С. 138—143.
23. Немецкая улица в Саратове// Язык и культура российских немцев: Межвуз. сб. науч. трудов. — Саратов: СГПИ, 1998. С. 16—27.
24. Industriearchitektur an der Wolga von der Mitte des 19. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts// «...das einzige Land in
Europa, das eine große Zukunft vor sich hat»: Deutsche Unternehmen und Unternehmer im Russischen Reich im 19. und frühen 20. Jahrhundert. — Essen: Klartext, 1998. S.487—498. — на нем. яз.
25. Влияние государственных институтов на немецкое строительство в регионах/ / Межнациональные взаимодействия и проблемы управления в Поволжье и на Северном Кавказе. 4.II. — Саратов: ПАГС, 1998. С. 124—129.
26. Готические миражи// Памятники Отечества. — М., 1998. №40 (3—4). С. 162—165.
27. Государственное регулирование развития поселений российских немцев// Архитектура в истории русской культуры. Вып. 4. Власть и творчество. — М.: Эра, 1999. С. 119—126.
28. Архитектура// Немцы России: Энциклопедия. —М.: ЭРН, 1999. T.I. С.82—83.
Тезисы научных конференций
29. Национально-региональные особенности архитектуры Среднего Поволжья// Проблемы истории архитектуры: Тез. Всесоюз. науч. конф. — М.: ВНИИТАГ, 1990. Ч.И. С.170—173.
30. Особенности «немецкой» архитектуры на Волге// Советские немцы: история и современность: М-лы Всесоюз. науч.-практ. конф. — М., 1990. С.343—351.
31. Немецкое архитектурное наследие на Волге: опыт изучения/ / Проблемы сохранения историко-культурного наследия Саратовской области: М-лы науч.-практ. конф. — Саратов, 1992. С.38—43.
32. Традиция в архитектуре немецких колоний Поволжья// Российские немцы на Дону, Кавказе и Волге: М-лы росс,-герм. науч. конф. — М.: Междунар. союз нем. культуры, 1995. С.245—251.
33. Классицизм в строительстве немецких поселений в Поволжье// Запад — Восток. Искусство композиции в истории архитектуры: М-лы междунар. науч. конф. Вып.5. — М.: Architecture, 1996. С. 142—148.
34. Город как объект музеефикации// Музей и традиции: М-лы науч.-практ. конф. — М: Музей революции, 1997.
С.68—71.
35. Формы расселения российских немцев// Центральные и региональные архитектурные школы: М-лы междунар. науч. конф. — Саратов: СГТУ, 1998. С. 131—132.
-
Похожие работы
- Поселения российских немцев.
- Архитектурно-композиционные особенности формирования поселений в горных районах Северной Осетии
- Градостроительные аспекты развития немецких поселений в Саратовском Поволжье в XVIII-XIX вв.
- Методы и алгоритмы моделирования среды обитания традиционных поселений
- Архитектурно-градостроительное наследие Кемеровской области